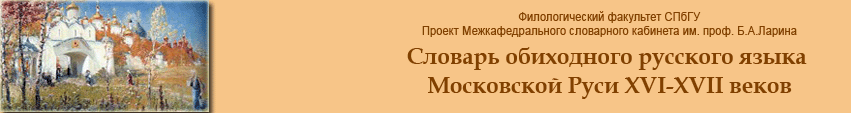Б.А.Ларин
ЗАМЕТКИ О «СЛОВАРЕ ОБИХОДНОГО ЯЗЫКА МОСКОВСКОЙ РУСИ»1
(Ларин Б.А. Филологическое наследие: Сб. статей - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. С. 656-659.)
656
Хронологические рамки ясны из термина Московская Русь. Это период серед(ины) XV — к(онца) XVII в.
Обиходный язык достаточно четко отличается от церковнославянского. Это язык устного общения и частных деловых документов, лишенных политического, общегосударственного значения.
Труднее отграничить обиходный язык от областных крестьянских диалектов. Мы имеем в виду ту наддиалектную систему разговорной речи, какая постепенно складывалась с XV по XVIII в. и именовалась в эту эпоху «просторечием». Тогда этот термин означал не сниженную, а общую разговорную речь, в противоположность книжному письменному языку.
Существенно то, что под обиходным языком Московской Руси мы понимаем несколько обобщенный, именно общий разговорный язык, а не узко-локальный тип и не узко-социальный (например, крестьянский или посадский).
Обобщение тут законно потому, что соответствует ясно проявляющейся в эту эпоху тенденции к устранению специфически местных и специфически сословных отстоев в языке, тенденции к выработке общего, общепонятного разговорного языка.
Обобщение это оправдано еще и тем, что отражение разговорного языка в письменности XV—XVII вв. всегда обобщено, обеднено, лишено конкретных деталей, подведено под нормы письменного языка, в большинстве случаев лишено той животрепещущей подлинности, какую мы находим в записях разговорной речи, относящихся к новому времени, в записях XVIII—XIX вв.
Лишь в сборниках пословиц, в сатирической литературе и крупицами в частно-деловой письменности XVII в. мы находим прямое отражение разговорной речи, но и то с очевидным для исследователя упрощением и обобщением.
Ориентировочно 1959 г.
* * *
Второй раз, как после попадания бомбы, на том же месте мы хотим возвести новый большой дом. Не «шалаш-времянку» или «палатку» хищника золотоис-
____________________________________________________________
1 С начала 30-х годов Б. А. Ларин увлеченно и продуктивно работает над Словарем древнерусского языка, который должен был продолжить «Материалы для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского. Много сил и таланта он вложил в определение принципов словаря и круга источников, пополнение картотеки, формирование авторского коллектива. Был опубликован проект словаря, подготовлены и отредактированы несколько его томов, напечатаны пробные наборы. Однако в 1949 г. тема «Древнерусский словарь» руководством Института языка и мышления АН СССР была закрыта. Б. А. Ларин покинул институт, авторский коллектив был расформирован, а в 1951 г. картотека словаря была перевезена из Ленинграда в Москву.
В конце 50-х годов Б. А. Ларин, работая в Ленинградском университете, возвращается к идее создания словаря древнерусского языка Московской Руси. Публикуемые заметки раскрывают этот замысел. Все выделения в текстах заметок сделаны их автором. Публикация подготовлена С. С. Волковым в 1993 г.
657
кателя в пустынных краях (Львов — Бархударов)2, а большой и самый культурный дом — в заселенной местности, — словарь самого высокого уровня. Наш второй ДРС будет создан уцелевшими кадрами первого. В этом огромная сила. Гвардия ДРС за те «смутные годы», что отделяют нас от дня разгрома первого ДРС, осуществленного В. В. Виноградовым, Ф. П. Филиным и С. Г. Бархударовым, не торговала ширпотребом, а крепла и мужала в лексикографических подвигах и в испытаниях этой смутной поры. Она может сделать новый ДРС и лучше, и скорее, и самостоятельнее, чем раньше. Эта гвардия быстро подучит и обучит новую смену младших составителей, следующее поколение работников русской исторической лексикографии. Есть кадры! Собралось достаточно народу для начала этого большого дела, но ведь это еще не все, хотя это — самое главное!
Нет картотеки! Ее отняли у нас, перевезли в Москву и разворовывают, растеривают, приводят постепенно в негодность.
Надо заново создавать картотеку. Из разбомбленного дома вышел, был выведен почти невредимым весь народ, его населяющий, но для новой стройки не осталось ничего. Надо весь строительный материал завозить на стройку заново.
Создавать картотеку мы будем не по старому плану.
Большие сомнения смущают меня, из-за них я все медлил с началом этого повторного дела. Тридцать лет назад я мог без колебаний приступать к поискам материалов, к подготовке кадров, к инструкции ДРС — в уверенности, что впереди достаточно жизни, чтобы довести дело до конца. Но для второго ДРС у меня осталось слишком мало времени, успею ли я?
Я отбрасываю сомнения главным образом потому, что мне дороже всех других замыслов именно этот замысел — создать словарь русского средневековья, чтобы он послужил основным фондом и русской исторической лексикологии, и всяких исследований по истории русской культуры, воззрений и обычаев, нравов и верований, и общего исторического словаря русского языка, и для разработки ряда теоретических проблем: изменения значений, исторической синонимики, отмирания слов и обогащения словарного фонда разными путями, наконец взаимо действия и судеб разговорного и литературного языков от средневековья до наших дней.
Нет более увлекательной задачи, чем создание такого богатого источника для множества исследований, наблюдений и размышлений, а вместе и богатого собрания фразеологии, этих сгустков и самородков народной мысли, опыта мудрейших, самоцветов слова безвестных и тем не менее чудо-умельцев, гениев русского языка!
И мой жизненный путь и долголетняя школа моих учеников могут обеспечить успех такого начинания. Мы созданы для этого, мы способны это сделать, едва ли кто другой сделал бы, сделает это лучше нас!
Следовательно, мы должны это сделать — во что бы то ни стало!
И все сопутствующие малые работы МСК будут работать в нашу пользу.
____________________________________________________________
2 Речь идет о проекте подготовки Малого древнерусского словаря XI— XVII вв. (двухтомника) на базе картотеки ДРС.
658
Какие драгоценные пояснения, пополнения наших материалов дадут Печорский и Псковский областные словари! Как необходимы будут нам во многих случаях и Словарь к «Слову о полку Игореве» и Словарь «Повести временных лет»!
Но ограниченность времени, ресурсов, кадров, объема печатного словаря — заставляют задуматься над наиболее рационализированным, экономным методом выборки, составления и редактирования, окончательной подготовки к печати нашего словаря.
Отсюда все особенности предлагаемого сейчас мною плана работ.
Второй ДРС будет по замыслу гораздо меньше первого. Тогда я добивался издания 18-томного словаря, теперь я предлагаю составить словарь в 4-5 томах. Путь к этому: ряд ограничений.
1. Мы сузим хронологические рамки. Второй ДРС будет охватывать материал от середины XVI в. до начала 2-й трети XVIII в.
2. Мы не будем ставить задачей составление полного словаря русского средневековья, как хотели сделать раньше. Это сделает рано или поздно Академия наук СССР. А нам будет по силам дифференциальный словарь. Даже имеющиеся словари старославянского и древнерусского языка (Миклошича, Востокова, Срезневского, Дювернуа, Амфилохия, Алексеева, Старчевского, К.Меуеr'а и т.д. ) совершенно достаточно для лексикологов и историков описывают лексику церковной письменности. И два словаря Академии Российской и Словарь церковнославянского и русского языка АН 1847 г. очень полно охватывают лексику, унаследованную русским литературным языком. Но вот лексику русского живого языка средних веков (от XV в. до Даля) не отражают сколько-нибудь удовлетворительно никакие, ни один из существующих словарей. А в ней, в хорошей документации, в широкой иллюстрации обычного разговорного обихода русских народных масс ощущается острая нужда. Это наиболее вопиющая лакуна русской лексикографии и самое зыбкое место, трясина, в которой гибнет всякая попытка построения русской исторической лексикологии.
Следовательно, если отбирать — то именно все отражения живой обиходной русской речи в памятниках XVI—XVIII вв. Почему не с XV в. ? Потому что за эти полтора века (XV и первую половину XVI в. ) мы могли собрать (по имеющемуся опыту первого ДРС) гораздо меньше, во много раз меньше материала, чем за одну лишь вторую половину XVI в. Раз у нас мало сил и времени, легче пожертвовать именно этим!
Почему не до Даля? Потому что понадобится еще один словарь примерно такого же объема (4-5 томов) для разработки материала от Кантемира до Даля или хотя бы до Бурнашова. Это предоставляем будущему. Этой темой можно пожертвовать сегодня, когда так остра нужда в основном материале средневековья XVI — начала XVIII в.
Итак, отбираем все, что считаем не чисто книжным, не словами узко-церковного применения или назначения, не выдуманными, «кованными» писательскими словами, не окказиональными кальками с иностранных речений, вводимыми неискусными переводчиками, а лишь то, что можно считать народным русским и обиходным, а не случайным и исключительным. Такие слова, такое словоупотребление Аврам Палицын и Аввакум называли просторечием, но мы не можем
659
принять этот термин, так как академический словарь XVIII в. передвинул их в разряд осуждаемых. Поэтому второй ДРС будет носить новое имя, декларирующее его ограниченность — «Словарь обиходного русского языка серед(ины) XVI — нач(ала) XVIII в. (От Домостроя до Посошкова)», «СОРЯЗ (XVI-XVIII)». Однако по поводу этих ограничений мы сразу же оговоримся:
1. Хотя мы и не беремся за источники XV в. и первой половины XVI в. со всей ответственностью за полноту использования их словарных богатств, но мы не будем избегать материалов этих 1 l/2 (полутора. — прим. ред. ) веков.
2. Хотя мы дифференцируем живую разговорную лексику от книжной, известной и употребляемой только в кругу ученых людей Московской Руси, но ввиду зыбкости границ мы не будем избегать слов «среднего стиля», по терминологии Ломоносова, т.е. славянизмов, широко известных и употребительных в разных жанрах письменности Московской Руси.
Поэтому можно бы было в конце концов определять наш словарь как «Словарь обиходного языка Московской Руси с XV до XVIII вв.», СОЯМР.
3. Ограничение в иллюстративном материале — половина в цитатах, половина — словоуказательные (цыфирь) при каждом значении. Иначе говоря: сделав возможно полную и богатую картотеку обиходного языка Московской Руси, мы будем с большим отбором, скупо отражать ее в печатном словаре. Широко — как только возможно — будет представлена идиоматика (фразеологические сочетания разного рода).
8 марта 1961 г.